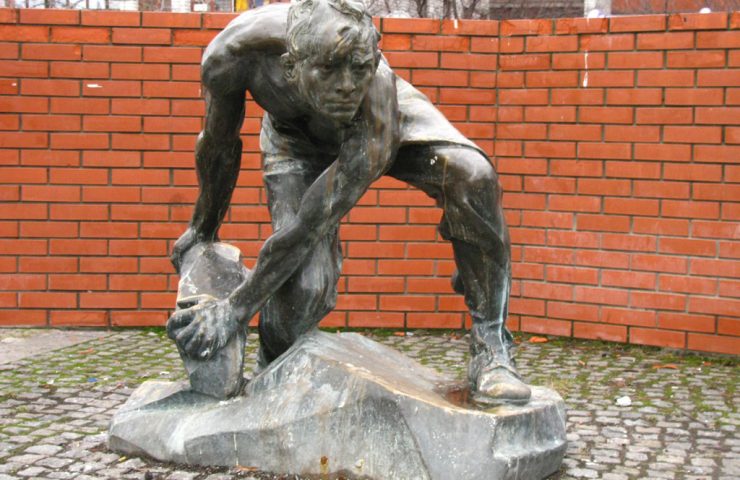
История борьбы классов
Почему Маркс считал, что история человечества — это история борьбы классов, а все революции всегда сменяются консервативной реакцией
Метод Маркса — это метод материалистической диалектики; И этот метод предполагает взгляд на мир, который находится в процессе постоянного развития. Более того, это не просто медленное эволюционное преобразование — это революционные процессы. Поэтому важнейшей частью в философской системе Маркса является его философия истории.
Наверное, самое известное высказывание Маркса (а точнее, Маркса и Энгельса, поскольку они соавторы «Манифеста Коммунистической партии» ) звучит так: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». То есть классовая борьба рассматривается как сама сущность, как движущая сила исторического процесса. Акцент Маркс, конечно, делает прежде всего на современной эпохе — эпохе господства буржуазии. Под буржуазией Маркс понимает всех тех людей, кто обладает средствами производства — землей, капиталом, техникой — и поэтому может нанимать рабочих, которые таких средств как раз лишены.
Так вот, возникает вопрос: какую же роль играет буржуазия в истории — и какую роль играет пролетариат? С точки зрения Маркса, буржуазия играет прогрессивную (и даже очень прогрессивную) роль. Самое главное, что сделала буржуазия, — она предельно упростила классовые противоречия, которые в закамуфлированной форме существовали всегда. Раньше эти классовые противоречия были замаскированы под множество пестрых разнообразных форм. В одном из своих текстов Маркс называет это романтической видимостью, которая окутывает эти отношения угнетения и эксплуатации.
Это может быть, например, личная преданность вассала сеньору, связь с землей, которая рассматривается как некоторые нерасторжимые узы. Это могут быть различного рода моральные, религиозные, национальные, культурные особенности и так далее и тому подобное. И все эти многочисленные формы, с точки зрения Маркса, всегда носят идеологизированный характер.
Но теперь, в эпоху буржуазии, главное противоречие — противоречие между угнетателем и угнетаемым — обнажается. Господство чистогана, говорит Маркс, жажда прибыли ради прибыли больше не нуждаются в каком-то прикрытии. Эпоха буржуазии — это эпоха, когда вместо брака по любви возникает брак по расчету. Вместо личных связей между людьми теперь царствует голый безличный интерес (или, как еще говорит Маркс: «Вместо священного трепета религиозного экстаза мы имеем дело с ледяной водой эгоистического расчета»). И если раньше различные сословия обладали различными пожалованными им свободами, то теперь на место этих многочисленных свобод приходит одна-единственная свобода — свобода торговли как главный лозунг капиталистического общества.
Но, как мы уже сказали, Маркс, а также Энгельс признают, что в истории буржуазия сыграла очевидно прогрессивную роль. Наверное, это можно выразить в виде афоризма: лишенный иллюзий цинизм лучше, чем тот цинизм, который скрывается за иллюзиями. По сути дела, буржуазия внесла в мир действительно целый ряд революционных изменений. Например, те географические открытия, которые в свое время раздвинули границы известного мира, прежде всего привели к росту рынков, к созданию мирового рынка. Расширение торговли вызывает к жизни рост промышленности, а как следствие — прогресс в области технологий, в области науки. Само развитие начинает идти более быстрыми и более радикальными темпами.
Очень важны успехи буржуазии и на политическом уровне. Если при феодализме буржуазия была, по сути дела, угнетенным сословием — любой дворянин смотрел на купца свысока, — то уже при абсолютной монархии, которая возникает в истории именно в тот момент, когда буржуазия начинает возвышаться, буржуазия становится третьим сословием, которое во многом начинает противостоять дворянству, конкурировать и бороться с ним. А если говорить о современном представительском государстве, то в нем, говорит Маркс, буржуазия вообще получает свое исключительное политическое господство. Поэтому, говорят Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», современное государство — это не что иное, как «комитет по делам буржуазии».
Итак, если резюмировать и философски обобщить эту революционную роль в истории, которую играет буржуазия, то эта роль состоит в ее способности подвергать отрицанию, преодолевать все то, что, как говорят Маркс и Энгельс, носит застойный, покрытый ржавчиной, устаревший характер. То есть буржуазия тоже воплощает диалектический принцип истории, когда новое качество достигается лишь в результате того отрицания, потенциал которого был заложен в истории с самого начала. Все сословное исчезает, все священное оскверняется, как говорят Маркс и Энгельс в своем «Манифесте». Например, вместо национального государства, которое, конечно, сохраняется и по-прежнему очень значимо, на первый план выходит космополитический рынок. Дешевые товары, которые производятся современной промышленностью, сказано в «Манифесте», играют роль той артиллерии, которая разрушает все китайские стены. Все народы, все страны начинают зависеть друг от друга, и тем самым в итоге происходит объединение мира. То есть уже здесь мы видим зачатки того, что в ХХ веке будут называть глобализацией.
Итак, Маркс с Энгельсом начинают, по сути дела, с гимна буржуазии. Но то преобразование традиционного мира, которое начала реализовывать буржуазия, сама буржуазия завершить не способна. Дело в том, говорят Маркс и Энгельс в «Манифесте», что современное буржуазное общество «походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями», такой образ Франкенштейна здесь возникает.
Первое, пока еще поверхностное проявление этой неспособности справиться с теми силами, которые буржуазное общество породило, — это эпидемии перепроизводства, экономические кризисы, которые всем нам знакомы. Действительно, экономический кризис в капиталистическую эпоху выглядит неким парадоксом: бедность, которая вдруг начинает поражать общество, оказывается следствием не дефицита, не нехватки товаров, а, наоборот, следствием их избытка, просто этот избыток в какой-то момент не находит платежеспособного спроса и поэтому, например, уничтожается совершенно иррациональным образом. Количество произведенных товаров оказывается гораздо большим, чем общество в данный момент может себе позволить, просто потому что общество живет на заработную плату.
Но кроме этого, говорят Маркс и Энгельс, буржуазия (конечно, бессознательно, сама того не желая) выковала оружие, которое несет ей смерть. Этим оружием является пролетариат. Пролетариат — это современные наемные промышленные рабочие. А это означает, что пролетарий — это человек, который существует и живет лишь до тех пор, пока покупается его рабочая сила, причем покупается с целью увеличения капитала. Если спрос на рабочую силу падает, рабочий оказывается, по сути дела, перед лицом голодной смерти, перед лицом небытия. Кроме этого, еще один очень важный момент: рабочий, пролетарий превращается в придаток машины. Если традиционный средневековый мастер владел своим инструментом и инструмент был продолжением личности и субъективности мастера, при капитализме, наоборот, рабочий становится продолжением, деталью, придатком машины. С точки зрения капиталиста, рабочая сила — это всего-навсего такой же ресурс, такой же фактор производства, как, например, техника или сырье. Таким образом, человек здесь превращается в некоторую вещь или в придаток вещи, то есть теряет свой собственно человеческий облик, свое человеческое достоинство. Поэтому можно сказать, что именно пролетариат воплощает самим своим бытием, своим телом, своей жизнью самое главное противоречие современного буржуазного общества. Пролетариат — это класс людей, но людей, которые поставлены в нечеловеческие условия жизни.
Пролетариат, с точки зрения Маркса, — это такой класс, для представителей которого существует не просто нехватка каких-то конкретных прав, а универсальное бесправие. Будучи пролетарием, человек полностью подчинен условиям, которые выдвигает для него капитал. То есть пролетариат — это существо, которое деградирует и регрессирует в силу тех социальных условий, в которые он поставлен. Но именно поэтому, говорит Маркс, пролетариат выражает универсальный смысл человеческого существования, но делает это отрицательным образом. Пролетариат — это человек как таковой, но со знаком минус, потому что он показательно лишен всего того, что делает человека человеком. Он производит своим трудом все богатства современного мира, но сам лишен какого-либо доступа к этим богатствам.
Положение пролетариата можно рассматривать как своего рода исторический симптом того, что универсальные человеческие ценности (то есть как раз то, на чем строится вся буржуазная идеология со времен, например, эпохи Просвещения) на самом деле доступны только части человечества — человеку-буржуа. Идеологически понятая универсальность человеческих ценностей оказывается фиктивной. И в силу такого положения, полагают Маркс и Энгельс, пролетариат не может не вступать в революционную борьбу с буржуазией за изменение сложившегося порядка.
Но, конечно, поначалу эта борьба будет носить наивный неразвитый характер, принимая, например, форму порчи оборудования, разрушения техники, в которой воплощается эксплуатация труда капиталом. Но постепенно, шаг за шагом, пролетариат должен будет осознать себя как класс, осознать свои интересы и перейти к более последовательной, более радикальной борьбе.
В чем же состоит программа политической борьбы пролетариата против господства буржуазии? Если выразить ядро этой программы, оно будет связано с отменой буржуазной частной собственности. Это очень важно: Маркс и Энгельс подчеркивают — не вообще собственности, как ошибочно понимают, скажем так, вульгарные, некомпетентные критики Маркса и марксизма, не собственности вообще, а именно буржуазной ее формы. То есть такой формы, в которой собственность на средства производства одного класса предполагает полное отсутствие средств производства у другого класса, благодаря чему один класс должен будет продавать свою рабочую силу другому классу. Эта борьба с частной собственностью на капитал, с точки зрения Маркса, вполне справедлива. Потому что капитал, который в буржуазном обществе находится в частной собственности, на самом деле является продуктом общественного труда. И поэтому, полагает Маркс, в конечном итоге в ходе революционной борьбы этот капитал должен быть возвращен его подлинному собственнику — обществу производителей. Это и есть то самое коммунистическое общество, построение которого есть цель классовой борьбы.
Важно, что в этой борьбе, в самой динамике буржуазного общества, которое путем революции должно будет перерасти в общество коммунистическое, будет преобразована не только экономика, не только производство, но и весь социум. В какой-то момент, полагают Маркс и Энгельс, государство должно будет отмереть. Да, вначале пролетариат завоевывает государство для того, чтобы закрепить свое политическое господство. Но поскольку пролетарская революция подразумевает уничтожение самих классов, оппозиции угнетателя и угнетенного, то государство как инструмент господства одного класса над другим окажется просто ненужным.
Буржуазия, говорят Маркс и Энгельс, видит огромную угрозу в этой коммунистической программе и поэтому обвиняет коммунистов в разного рода смертных грехах. Можно это подытожить простой формулой — для коммунистов нет ничего святого. Маркс и Энгельс насмешливо признают правоту этих обвинений, но говорят, что за этими обвинениями на самом деле стоят грехи самой буржуазии.
Например, коммунистов обвиняют в том, что они готовы предать свое отечество, что они не признают господство национальных интересов. Все верно, говорят Маркс и Энгельс, но только не будем забывать, что пролетарий поставлен в такие условия, что у него по определению нет отечества. Все, что у него есть, — это собственная рабочая сила, которую он вынужден продавать капиталу. Или коммунисты критикуют семью. Маркс и Энгельс даже говорят о том, что буржуа обвиняют коммунистов в том, что они хотят ввести общность жен. Действительно, если мы вспомним разного рода утопические концепции коммунизма, восходящие еще к «Государству» Платона , то мы видим, что там пропагандируется общность жен. На это Маркс и Энгельс отвечают: конечно, на самом деле речь идет не о наивно понятой общности жен, а о том, что должна быть изменена буржуазная форма брака — так же, как должна быть изменена и буржуазная форма собственности. Что такое буржуазный брак? На самом деле это просто юридический инструмент для эксплуатации женского труда, позволяющий закрепить частную собственность на женщин. Буржуа во всем видит собственность, и, когда он слышит, что коммунисты хотят отменить частную собственность, он автоматически заключает, что коммунисты хотят предоставить всех женщин в некоторое общее пользование.
Итак, можно сделать вывод, что ситуация, которая описывается в «Манифесте Коммунистической партии», — это реальная возможность исторического изменения. Но важно понимать, что для того, чтобы реальная возможность стала действительностью, воплотилась, актуализировалась, пролетариат должен обрести политическое самосознание, то есть сформироваться как класс, осознать свою миссию — и только после этого начать последовательно действовать на основе достигнутого понимания объективной ситуации. То есть задача «Манифеста Коммунистической партии» состоит в том, чтобы сформировать у пролетариата самосознание, избавить его от каких-либо иллюзий и объединить рабочих для борьбы за достижение их подлинной цели — создания бесклассового общества, в котором будет невозможна эксплуатация труда одних людей для обогащения других.
«Манифест Коммунистической партии» вышел в самом начале 1848 года, и в том же году, как мы уже говорили, в Европе разразилась революция, в которой пролетариат принял участие как одна из важнейших сил. Революция эта окончилась неудачей . Вся последующая история будет показывать, что пролетарская революция часто оказывается преждевременной, недостаточно радикальной и в итоге терпит поражение.
Оказавшись в Лондоне после поражения революции, Маркс внимательно следит за тем, как развиваются дальнейшие события. Там он пишет один из самых своих знаменитых и ярких текстов, который называется «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Этот текст посвящен очень проницательному анализу того, что произошло во Франции как раз после поражения революции 1848 года.
Произошло, по сути, превращение буржуазной республики в империю, во главе которой встал племянник Наполеона I. Как мы знаем из истории, Наполеон I действительно пришел к власти вследствие государственного переворота, который состоялся по революционному календарю 18 брюмера, то есть 9 ноября 1799 года, — а теперь к власти приходит Луи Бонапарт . Под именем Наполеона III его провозглашают императором 2 декабря 1852 года. Маркс показывает те обстоятельства, вследствие которых тенденция пролетарской революции встречает целый ряд противодействий, вызывает реакцию и тем самым терпит поражение.
Работа эта начинается с еще одной знаменитейшей фразы Маркса, в которой он как раз выражает свое отношение к текущему историческому процессу. Итак, мы помним фразу из «Манифеста»: «История — это история классовой борьбы», — а теперь Маркс говорит следующее: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз — в виде трагедии, второй раз — в виде фарса». То есть мы видим, что, несмотря на то что у истории есть некоторая логика развития, внутри этого прогрессивного развития возможны и регрессивные процессы, как бы возвращения вспять. Это и есть, собственно говоря, диалектическая поступь истории, где, делая шаг вперед, мы потом начинаем или топтаться на месте, или отступать назад.
Трагедия — это, собственно, приход к власти Наполеона I. Это событие, которое завершает Великую французскую революцию. А переворот, который совершает его племянник спустя полвека, — это фарс. Наполеон I символизирует именно революционную миссию буржуазии: он как бы закрепил те позитивные, прогрессивные завоевания буржуазии, которых она добилась в ходе Великой французской революции. Наполеон III, Луи Наполеон, напротив, выражает реакционную позицию буржуазии, которая вызвана страхом уже перед пролетарской революцией как революцией более радикального порядка. Ведь ради того, чтобы сохранить свое экономическое господство, то есть господство капитала над трудом, буржуазия в какой-то момент может быть готова пожертвовать теми, например, политическими свободами, с которыми она ранее связывала свою историческую миссию. Порядок и безопасность, то есть широкие полномочия исполнительной власти, теперь стали как будто бы главным интересом буржуазии как класса. Но почему? Потому что пролетариат перед лицом буржуазии обнаружил себя как силу, готовую бросить вызов господству капитала.
Так в чем же тогда состоит логика истории, которая раскрывается в тех событиях, которые описывает и интерпретирует Маркс? Прежде всего он указывает на то, что люди, конечно, сами делают свою историю, но, как мы помним, они не сами выбирают те обстоятельства, в которых они эту историю делают. Исторические действия совершаются в тех обстоятельствах, которые получены из прошлого. Поэтому новое, революционное, очень часто наряжается в какие-то старые одежды, примеряет маски прошлого. Например, если вспомнить эпоху Великой французской революции, то для деятелей этой революции герои Древнего Рима, римские республиканцы, часто были прообразами, символами, которым деятели Французской революции пытались подражать. Но если, говорит Маркс, в эпоху Великой французской революции образы прошлого были нужны прежде всего для возвеличивания революции, для придания ей большего масштаба, теперь, в середине XIX века, фигура Наполеона I, которому пытается подражать его племянник, нужна скорее для того, чтобы затормозить революцию. Эти образы наполеоновской эпохи в эпоху Наполеона III начинают как раз играть роль пародии, фарса, комедии.
Ведь если, говорит Маркс, старые, классические буржуазные революции неслись от успеха к успеху, то революции, которые мы видим в XIX веке, постоянно останавливаются, критикуют себя, тормозят, снова и снова отступают перед громадой собственных целей. Что это за громадные цели? Речь идет об освобождении труда, об отмене частной собственности на средства производства, об упразднении господства буржуазии. То есть если революции прошлого приводили к тому, что один господствующий класс сменял другой господствующий класс, то новая революция ставит своей задачей упразднить классовое господство как таковое. И, разумеется, это не может не вызвать реакцию со стороны буржуазии, которая будет принимать все меры, чтобы не допустить такого развития событий. Поэтому свои некогда революционные радикальные настроения буржуазия сменит на контрреволюционные, консервативные.
Вообще, работа Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» — это один из лучших политико-философских анализов консервативной реакции, которая наступает в эпоху больших перемен. Лозунги реакции, лозунги буржуазных республиканцев, которые боятся революции и вследствие которых рано или поздно придет Наполеон III, — это прежде всего борьба за порядок, за безопасность, за спасение общества. Маркс очень интересно иронизирует по этому поводу: когда Наполеон III говорит о спасении общества, то в итоге мы видим, что общество будет спасенным только тогда, когда все более и более узкие интересы подчиняют себе все более и более широкие.
Но еще более важны те методы, с помощью которых власть Наполеона III будет выполнять свои обязательства — спасать порядок, устанавливать безопасность и так далее. Маркс указывает на то, что одним из важнейших политических инструментов этой новой власти является осадное положение — сегодня бы мы назвали это чрезвычайным положением. Но самое важное, что оно начинает рассматриваться как нормальный институт, то есть как повсеместно применяемая практика для того, чтобы революционные волнения или даже просто свободомыслие ввести в какие-то узкие рамки, а то и полностью уничтожить.
Те самые буржуазные республиканцы, которые пришли к власти в результате революции 1848 года, содействовали этому контрреволюционному перевороту Луи Наполеона, пытались удержать революцию в приемлемых для себя границах. Например, если взять ту конституцию, которая была выработана еще в 1848 году, то в ней можно увидеть, что все классические буржуазные свободы — такие как, например, свобода совести, свобода слова — снабжаются очень специфическими оговорками. Только один пример. В одной статье этой конституции сказано: провозглашается свобода образования. Но тут же делается примечание: пользоваться этой свободой можно при условиях, предусмотренных законом, и под верховным надзором государства. Каждый параграф конституции, говорит Маркс, содержит в себе свою противоположность. То есть мы тоже видим, что конституция — это такая пародия на диалектику: каждое явление содержит в себе свое отрицание. Эта реакционная политика, венцом которой является приход к власти Наполеона III, соответствует своего рода инстинкту буржуазии, по сути, ее инстинкту самосохранения.
Дело в том, что в какой-то момент буржуазия начинает стремиться к менее полным и к менее развитым, но зато более безопасным формам своего господства. Поэтому от республиканского содержания она постепенно переходит к монархической форме, которая, конечно, искажает буржуазные идеалы, но зато спасает буржуазию от настоящей революции. Буржуазия в какой-то момент понимает, что все те орудия борьбы, которые когда-то она сама применяла, борясь за свое собственное господство, теперь могут быть обращены против нее. Свобода печати, свобода собраний — все это теперь начинает объявляться социализмом — страшное слово, — и все, на что ставится клеймо «социализм», сразу начинает подвергаться преследованию.
Поэтому в какой-то момент, говорит Маркс, совершенно логично, что, следуя этому инстинкту самосохранения, буржуазия предпочтет отказаться от своих принципов, от своих свобод в пользу деспотического правления первого встречного авантюриста, как Маркс называет Луи Бонапарта. Маркс, конечно, не стесняется в выражениях, характеризуя личность Наполеона III: он описывает его как финансового мошенника, представителя богемы, предводителя люмпен-пролетариата, то есть всякого сброда, и так далее. Историки сегодня во многом оспаривают эту точку зрения, говоря о том, что Маркс, конечно, рисует Луи Бонапарта в очень гротескном, утрированном, карикатурном виде. Но Маркс не просто описывает эмпирическую действительность — то, каким Наполеон III был в реальности как человек. Маркс также моделирует определенную ситуацию, в которой реакционная логика действий буржуазии порождает потребность в деспотической форме правления. И, в принципе, оказывается совершенно все равно, кому будет в итоге передана верховная власть, главное — чтобы эта власть выполняла свои основные функции, то есть полицейские функции, функции по сдерживанию любых революционных настроений и выступлений.
Кстати, это можно сравнить со знаменитым анализом государства, который Гегель дал в своей последней философской работе «Философия права». Маркс глубоко ценил эту работу и свои ранние сочинения посвящал критике концепции государства Гегеля. Гегель считал вершиной развития государства именно современную конституционную монархию, где действуют органы сословного представительства. Монарх сохраняется в современном государстве только как некоторый символ: он просто ставит подпись под законами, то есть как бы субъективирует их содержание, показывает, что это не просто абстрактные законы, неизвестно кем созданные, а что у них есть некоторый автор, тот, кто ставит под ними свое имя. И Гегель считал это, по сути дела, наиболее рациональной формой правления, где монарх выполняет просто символическую функцию. Эта функция очень важна, но надо понимать, что при этом монарх может быть самым посредственным, самым серым человеком.
Так вот, Маркс как бы возвращает Гегелю его аргумент, показывая, что в случае Луи Бонапарта, Наполеона III, мы видим, что этот никчемный серый человек, первый встречный авантюрист, на самом деле не просто подписывает законы, которые имеют рациональный и прогрессивный смысл, а как раз, наоборот, воплощает реакцию, разрушение, извращение всех завоеванных ранее свобод — и все это вследствие того, что сама буржуазия столкнулась с революцией, с революционными требованиями нового типа. Если угодно, она столкнулась с новым субъектом истории — пролетариатом.
Александр Погребняк


